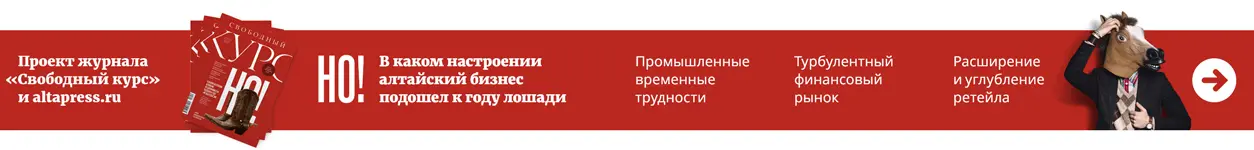И спонсорам, и городу зачтется
А сделали такой подарок ученому его ученики и почитатели из лингвистического института Барнаульского государственного педуниверситета. 29-30 сентября здесь состоялась Всероссийская научно-практическая конференция "Взаимодействие направлений в современной лингвистике", посвященная 80-летию профессора Блоха. Для участия в ней в Барнаул съехались ведущие языковеды Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода, Иркутска, Саратова, Новосибирска и других городов России.
Два дня пленарных и секционных заседаний, "круглых столов" и дискуссий, посвященных коммуникативной функции и философской сущности языка, тенденциям и особенностям его развития, стали для вузовских преподавателей прекрасным мозговым штурмом на старте учебного года.
- Я убеждена: истина рождается не в споре, истина рождается в тишине кабинета. Но если бы у ученых не было возможности периодически собираться на подобные встречи, истина так бы и оставалась в наших кабинетах, - говорит заведующая кафедрой английского языка БГПУ доктор филологических наук профессор Ольга Трунова. Ее кафедра выступила организатором всероссийского сбора лингвистов в Барнауле. В финансовом отношении ученым помогли спонсоры: небольшие фирмы, частные лица, руководство санатория "Обь". Таким образом Барнаул в очередной раз оправдал неофициальный статус "сибирских Афин" и вписал в анналы лингвистической науки ряд новых понятий и терминов. Когда-нибудь городу это зачтется.
Московский юбиляр в алтайском интерьере
Масштаб конференции и интерес к ней определялись не только проблематикой, но и личностью ученого, юбилею которого она посвящалась. Профессор Блох - один из столпов современного отечественного языкознания. Он создал собственную лингвистическую школу, воспитал сотни последователей - докторов и кандидатов наук, написал для вузов несколько учебников английского языка. Поэтому неудивительно, что чествование ученого состоялось в рамках всероссийского мероприятия. И то, что это произошло в Барнауле, - далеко не случайность.
- Здесь работают многие мои ученики. А давно, давно, давно, а именно в сентябре 1942 года, я отсюда, из Барнаула, пошел в армию и на фронт, - рассказывает юбиляр. - В Барнауле мы жили с мамой и моим малолетним братом. Нас эвакуировали сюда из Москвы. Отец у меня был военный врач и находился в действующей армии. В Барнауле я продолжал учебу в школе № 1, а мама работала в эвакогоспитале где-то, кажется, на одной из Алтайских улиц. Их ведь тогда было в городе больше десятка! Мы жили рядом с 12-й Алтайской, это был переулок Геблера.
На фронт я попал не сразу. Сначала было военно-пехотное училище в городе Рубцовске. Полгода отучился и попал на Западный фронт под Смоленск…
Война закончилась для Марка с победными залпами в 1945-м. Но после демобилизации в Барнаул он уже не вернулся, о чем искренне сожалел.
- Барнаул нам всем пришелся по душе, - вспоминает Марк Яковлевич. - Мне настолько нравилась обстановка доброты, сердечности, искренности, которая нас здесь окружала, что я вообще хотел поселиться в Сибири. У мамы была возможность приобрести в Барнауле дом на горе, ей уступали в цене куда-то уезжавшие владельцы, и она написала мне об этом на фронт. Я ответил: "Обязательно покупай!". Но сделка не состоялась, так как отца приказом отозвали в Москву и вслед за этим туда возвратились мама и брат.
Сняв фронтовую шинель, Марк стал столичным жителем и студентом. Случай вернуться в Сибирь представился ему по окончании учебы. Вскоре после войны в Иркутске открыли Институт иностранных языков, и Марк вместе с женой оказался в числе его зачинателей.
Потом снова была Москва, где оба с головой ушли в научно-преподавательскую работу и куда к ним до сих пор со всех концов страны приезжает учиться талантливая молодежь.
В свои 80 профессор Блох мудр, энергичен, мобилен и современен. У него хватает времени и сил не только на научное, но и на литературное творчество. Он пишет и переводит под псевдонимом Марк Ленский, для которого избрал фамилию жены. В его литературном досье - поэзия и проза: оды, басни, лирические стихи, повести и рассказы.
Рамка для души
К писательству профессор Блох пришел кружным путем, хотя с выбором профессии определился еще в юности.
- В детстве я мечтал стать горным инженером, потом писателем. У меня был наставник и старший друг замечательный писатель-историк Валентин Иванович Костылев. Прочитав мой первый юношеский рассказ, он сказал: "Вы должны писать", но одновременно преподал мне урок обращения со словом. В рассказе я употребил слово "абсолютно" в значении предела. Он подчеркнул его красным карандашом и сказал: нужно говорить не абсолютно, а совершенно, потому что там, где есть испытанное русское слово, не нужно заменять его иностранным. Это для меня был университет, и я до сих пор следую этому требованию и в писательской, и в научной деятельности.
В какой-то степени замечание писателя Костылева предопределило будущую научную стезю юного Блоха. Писателем он стал много лет спустя, дав себе труд прежде научиться в совершенстве владеть словом.
В этом плане обращение ученого к жанру фантастики, где главное - захватывающий сюжет, а не слово, несколько неожиданно.
- Фантастики в чистом виде у меня нет, - поясняет Марк Яковлевич. - Моя фантастика о людях, их сердцах и душах. Для меня она - только рамка для того, чтобы нарисовать людские характеры в разрешении конфликтов. Я очень озабочен духовной жизнью человека и разворачиваю приключения человека в двух ипостасях. У каждого из нас как бы две жизни. Одна жизнь - это та, которой мы живем в реальности для других людей, вместе с другими людьми. А другая - жизнь нашей души, которая оценивает действительность. И эта жизнь для каждого человека в отдельности подчас реальнее той, что нас окружает.
Когда хочется хорошего русского
- Кто ваш самый любимый писатель? Кого вы читаете, когда хочется хорошего русского языка?
- Самый любимый - Пушкин, и при этом из прозы - его "Капитанская дочка". Это для меня вершина прозы вообще. И другая вершина - "Алые паруса" Грина.
Писатель обязательно должен звучать языком. Тогда это писатель. Хороший язык у Алексея Толстого, Булгакова, Шукшина. Из современной русской поэзии я бы выделил трех великих классиков: Галича, Высоцкого и Окуджаву. Они прославлены как барды, но кто из имеющих мало-мальское чувство языка и душу прочитает их произведения, тот увидит, что это прежде всего поэты. Глубокие и мудрые.
Достояние народа
- Сколько нужно знать слов, чтобы объясняться на том или ином языке?
- Один процент слов языка, но самый важный. В любом языке колоссальное количество слов - до нескольких миллионов. Нормальная голова не может вместить и малую их долю. Основной словарный фонд, которым мы пользуемся, - 15-20 тысяч. Кроме того, в языке имеется продуктивная система словообразования, с помощью которой от каждого слова можно образовать целое гнездо других. А вот грамматику, чтобы владеть языком, надо знать на все сто процентов. Знание языка не ограничивается словами, а начинается ими.
- К сожалению, словарь многих современных молодых людей беднее, чем у Эллочки-людоедочки*. Попытки упростить "наш великий русский" периодически возникают и в научной среде. А можно ли реформировать язык по большому счету?
- Декретировать изменения языка вообще невозможно. Язык - это достояние народа, продукт его деятельности. Но какие-то условности, нормы языка через школьное преподавание внедрить можно. И это время от времени происходит и идет языку только на пользу.