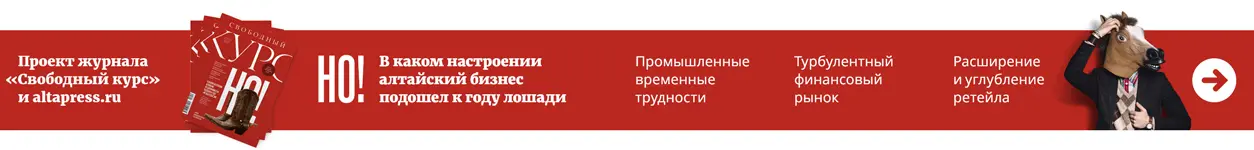Расширение границ
— Детские воспоминания о больнице у людей, как правило, не самые лучшие. Что изменилось за последние 20 лет?
— Общемировая тенденция — даже самые маленькие дети, и тем более дети старшего возраста, должны быть обезболены при малейшей манипуляции. В больнице и так много поводов для стресса. Даже новорожденные испытывают эмоциональный дискомфорт при перемещениях в пространстве, при изменении температуры, при отлучении от матери.
Психологи говорят, что при общении с ребенком должен быть контакт глазами на одном уровне, врач не должен быть выше.
Если до трех лет ребенку по большом счету все равно, где и как он заснет и проснется, то после он уже отлично понимает себя в пространстве. И я должен ему дать гарантию и в подробностях рассказать, что с ним будет происходить.

В середине 2000-х случился мощнейший прорыв в нашей специальности, связанный с новыми разработками химической промышленности и внедрением новейшей аппаратуры — появились многочисленные мониторы, многофункциональные кровати, аппараты ИВЛ, наркозные аппараты и прочее. Меня родители пациентов спрашивают, какой наркоз будет, какие аппараты. Отвечаю: все будет как в Лондоне.
— Где граница, когда ребенок остается один на один с врачами, без мамы?
— Границы становятся все шире. Совсем недавно у нас была уважаемая представительница одной из структур по борьбе за права детей из Москвы. Приехала с циклом лекций «Открытая реанимация», представьте себе. Я говорю: «Я 30 лет работаю в центре охраны материнства и детства, и мы всегда пускали родителей». Вот удивление было.
Вообще, есть тьма поводов, чтобы не пустить родителей в реанимацию. Я всего один раз так поступил. У нас был 14-летний мальчик с пневмонией на фоне ВИЧ, тяжелый, «уходящий». Однажды папа (с таким же статусом) пришел его навестить, и я сказал: «Только после флюорографии». И он больше не пришел…

Сейчас есть тенденция к тому, чтобы и вводный наркоз проводить с родителями, то есть когда ребенок в состоянии эмоционального покоя и просто засыпает на руках у мамы. И после операции просыпается уже тоже на руках у мамы.
Говорят о том, чтобы позволить одноклассникам навещать больного. Я спрашиваю: «А про эпидемиологию вы ничего не слышали?» Более того, уже настаивают на том, чтобы и домашних животных приводить. Как в Европе. А давайте мы сначала научим наших людей относиться к собакам так же, как в Европе, хотя бы убирать за ними.
И вообще, должно же что-то оставаться «святым» и закрытым — как минимум роддом, операционная и реанимация, где люди голыми лежат.

Одна специальность
— Чем детская реанимация отличается от взрослой?
— У нас есть одна специальность — «анестезиология и реаниматология», без разделения на взрослую и детскую. Хирурги-то при этом разделились. С точки зрения казуистического правового мира хирург может отказаться оперировать ребенка даже с острым аппендицитом, потому что у него нет такой специализации, но при этом, если у пациента возникнут осложнения, оправдаться врачу будет сложно.
Реаниматолог должен помочь всем — и взрослым, и детям. Я считаю, что в вузе для врачей нашей специальности нужна подготовка по детству в виде дополнительных часов при кафедре анестезиологии и реаниматологии. Мы в центре проводим больше 2500 консультаций в год с врачами в районах, видно, что знаний не всегда хватает.
После 1990-х на реаниматологов свалилась не только интенсивная терапия в хирургии, но и оказание реанимационной помощи соматическим больным. Появились сложные пациенты с диабетом, например. В стационарах городов и районов края в реанимации на соседних койках лежат пациенты с инсультом, дорожно-транспортной сочетанной травмой и отравлением. А еще тетенька после кесарева.

Реаниматолог проводит анестезию, затем вывозит больного из операционной и берет под интенсивное наблюдение, дав медсестрам назначения по лечению. А потом опять возвращается в операционную. Интенсивность в работе увеличилась заметно за эти годы.
Наша специальность получилась такой мультимодальной. Возьмем кардиореанимацию. В основном это инфаркты миокарда или сосудистые тромбозы. Подход к их лечению и препараты четко обозначены. В роддоме та же история. А если ты работаешь в общей реанимации, взять Камень-на-Оби или Рубцовск, мозги, конечно, к концу суточного дежурства вскипают от наплыва разноплановых пациентов.
У нас отделение вообще кошмар какое многофункциональное: есть и хирургия, и травматология, и экстренная эндокринология, и неврология, и хирургия новорожденных, и единственное в крае отделение детского диализа.

Ни одного некрасивого ребенка
— С чего начинается ваша работа, когда человек попадает в реанимацию? Есть алгоритм действий?
— Что в первую очередь нужно сделать, попробуете отгадать! Нет? В первую очередь — гигиенические процедуры. Помойте человека! В наши операционные везут детей из нашей же реанимации уже подготовленных — ухоженных, после всех предварительных процедур.
Но почему-то до сих пор из районов края тяжелых детей к нам привозят без подготовки. К этим процедурам ухода относится, представьте себе, обработка всех физиологических отверстий, восстановление проходимости носового дыхания, мытье головы и тела, обработка ногтей, освобождение кишечника и т. п. Это работа реаниматологов на местах.
У нас есть большой опыт ухода, мы с удовольствием им делимся, потому что наши пациенты с пневмониями и церебральной недостаточностью, например, иногда находятся на ИВЛ неделями, месяцами и даже годами. Непрерывно.

В отличие от взрослой реанимации положение ребенка нужно менять каждый час, чтобы он буквально крутился во избежание пролежней. Мы крутим его вручную независимо от веса — три килограмма или сто.
Уход — это очень важно. Все должны быть опрятны, причесаны и с почищенными зубами. Если я в реанимации утром увидел некрасивого ребенка — мои сотрудники будут исправлять это немедленно.
При поступлении в реанимацию важен лабораторный контроль. Дежурный лаборант — это верный друг. Он бежит в приемный покой рядом со мной, и если я «носом чую», что у нас тут сахарный диабет, то лаборант уже через три минуты сообщит мне, сколько сахара в крови, например.
Пациенту нужно восстановить дыхание — убрали ли какой-то предмет и человек задышал воздухом, сняли ли отек медикаментозно, подключили ли к аппарату — все это врач-реаниматолог должен провести незамедлительно.

Реаниматолог тут же должен обеспечить доступ к магистральным сосудам для любых жидкостей, проще говоря, поставить катетеры, потому что в реанимации перорально и внутримышечно ничего не работает — ни тот же инсулин, ни антибиотики, ни даже обезболивающие, если пациент поступил в коме или в состоянии шока.
Это я рассказываю вам план не на два-три часа, а на ближайшие 10–15 минут после того, как человек поступает в реанимацию. Поэтому специальность у нас драйвовая — все нужно сделать немедленно и здесь.
В этот же день, сегодня же, у нас должен пройти консилиум по поступившему ребенку, в котором участвую я, лечащий врач реанимации, рентгенолог, врачи УЗИ, ЭКГ и врач соответствующей специальности по патологии — кардиолог, хирург, неонатолог, эндокринолог или другие. И только после этого начинается собственно терапия. На то, чтобы принять решение о диагнозе и лечении, у нас есть не больше часа.

27 рисков
— И все же иногда все эти манипуляции безрезультатны.
— Приведу пример. Девушка, которой резко заплохело — появилась одышка, поступает к нам в стационар. Подозрение на опухоль средостения — области за грудиной. И в этот же день опухоль распадается и дает огромное кровотечение в грудную клетку, мы откачали около трех литров жидкости. Спасти не удалось.
Я впервые видел такой мощный и молниеносный онкологический процесс. Самое интересное, что она полгода назад обследовалась, и ничего у нее не было. Вот такая судьба.
У врачей нашей специальности есть большая степень риска, и мы ее понимаем. Например, сегодня у нас было 27 наркозов, значит, мы рискнули 27 раз. Взяли на себя функции внешнего дыхания, центральной нервной системы, сосудистого тонуса и прочее. Каждая манипуляция — риск. Если не провести хотя бы одну — ребенок умрет.
У нас экстремальная специальность. Меня иногда спрашивают, прыгаю ли я с парашютом, погружаюсь ли с аквалангом, занимаюсь ли горными лыжами… Если мне не хватает адреналина, я просто иду в операционную.

Внутри сосуда
— Вернемся к сосудистому доступу. Много шума наделала история девочки, которая погибла в больнице в Советском. Ей пытались ввести катетер в подключичную вену. Почему эта манипуляция так сложна?
— С центральной веной работаю я, мои врачи в центре охраны материнства и детства и еще человек 10. В общей сложности около 20 специалистов на весь край, а у нас 60 районов.
Многие не владеют процедурой катетеризации центральных сосудов, потому что просто не готовы рисковать.

Вот у меня тут есть умная книжка английского автора. Там написано: если ты три раза «сходил» под ключицу, риск осложнений сразу больше на 20%. Это ранение плеврального пространства, ранение артерий и легкого, закупорка сосудов воздухом или тромбом и другое. Все это — смерть.
Такие манипуляции нельзя проводить раз от разу. В случае чего виноват будет не главврач, не его зам, не хирург, а реаниматолог. А он, может быть, эту манипуляцию уже 10 лет не делал. Ну вот сидит он, занимается бабушками и дедушками, а тут раз — и привезли ребенка после падения с горки или ДТП. И он начинает работать. Утром, если все прошло нормально, о нем никто не вспомнит, если плохо — его осудят все. Это большой риск.
25–30% реаниматологов уходят, чуть-чуть поработав. Наша специальность — это не любая другая плановая. В этом случае можно сказать: «Ну, завтра поедем и посмотрим». А если не нашлось времени, то и послезавтра. Или в следующем месяце проведем обследование. К анестезиологу-реаниматологу надо прямо сейчас.

— Есть альтернатива внутривенному доступу?
— Внутрикостный. Но про него все дружно забыли. Есть место под бугристостью большой берцовой кости, чуть ниже колена на передней плоскости. Если провести иглу туда, то жидкость будет поступать прямо в костный мозг. Скорость всасывания такая же, как и при внутривенном введении.
Можно проводить и реанимацию — вводить адреналин, который махом дойдет до сердца. Это может делать врач без анестезиологической специализации.
Из осложнений возможен остеомиелит — воспаление кости. Новорожденным детям можно сломать кость, но эти осложнения хотя бы поправимы без каких-либо последствий.

Ежесекундный мониторинг
— Реаниматолог всегда должен знать, в каком состоянии пациент?
— По порядку нашей службы у каждого пациента должно быть пять дневников. То есть если у меня 10 больных, в сутки я веду 50 записей в истории болезни по дежурству. Надо все время вставать с дивана и идти в палату, чтобы что-то откорректировать. Медсестра каждый час замеряет показатели — частоту дыхания, температуру, пульс, сатурацию, сейчас уже все знают, что это такое.
Плюс она должна записать, сколько пациент потребил жидкости и сколько ее самыми разными способами выделил. Кроме реаниматолога и медсестры в палате работает техника, ведя ежесекундный мониторинг с системой оповещения при любом ЧП.
И это очень странно, когда врач, звонящий мне для консультации из района, не знает частоту дыхания пациента, которого привезли еще вчера. Я ведь в таких случаях и поругать могу.
В первую очередь за дежурство нам нужна положительная динамика пациента. Если ее нет, значит, реаниматолог отдежурил плохо.

Путешествие в другой мир
— Что такое наркоз? Насколько сейчас он безопаснее, чем раньше?
— Открываем учебник. Наркоз — это искусственное угнетение центральной нервной системы, вызванное наркотиками или анестетиками, носящее обратимый характер. Раз мы забрали сознание, мы должны дать гарантию, что его вернем. Это такое путешествие в другой мир.
В начале прошлого века говорили о том, что в 20–35% случаев констатировали смерть как раз по анестезиологическим осложнениям. Сейчас в 101% случаев мы должны человека снять со стола живым, и он у нас должен проснуться, если только не отключился мозг еще до операции. Технически у нас есть абсолютно все для этого.

Есть препараты, например фентанил, который во много раз сильнее морфина, — ими можно обезболить все, даже в области большого скопления нервов — на крупных сосудах, желудке, печени, промежности, средостении, в районе сердца, на брыжейке. Хирург может как угодно манипулировать этими органами, и больной во время наркоза ничего не почувствует.
У нас только мозг не оснащен болевыми рецепторами, так что достаточно обезболить вскрытие черепа. Человеку дают фоновые дозы анестетиков только для того, чтобы ему было комфортно. Все-таки лежать на спине несколько часов в сознании — это неудобно, мягко говоря.
Существует больше полутора десятков разных вариантов анестезиологических мер, врач должен накануне операции представить, какого эффекта хочет добиться непосредственно во время хирургического вмешательства и как будет выводить больного после операции.

Желудок и мозг
— Много говорится о вреде наркоза. Как он влияет на организм?
— Недавно один главврач городской больницы рвал и метал, потому что ребенка несколько раз вырвало после наркоза. Тут надо воззвать к ответственности родителей, которые зачем-то кормят чадо перед операцией как в последний раз. За два – четыре часа до манипуляций нельзя даже сок.
Захожу в операционную вечером, говорю: «Сына, ты когда ел в последний раз?» — «Утром завтракал». — «А заболел когда?» — «Еще днем, в школе». Конечно, я не верю, ставлю зонд и достаю остатки завтрака, а также обеденную булочку и борщ. Все это очень опасно. Если желудочное содержимое попадает в бронхиальное дерево, развивается пневмония, а это в 70% случаев риск летального исхода.
Что касается когнитивных функций после наркоза, есть исследования, что они восстанавливаются после разных препаратов в срок от трех дней до нескольких недель. Мамы иногда очень озабочены тем, чтобы ребенок сразу из операционной пошел в школу и выучил таблицу Менделеева. Я в этом случае говорю: «Ну давайте без наркоза. Попробуем вырезать аппендицит под новокаином, чтобы у нас ребенок эмоционально стрессанул и потом от страха заикаться начал».
У нас нет выбора, понимаете. Дети не должны терпеть боль вообще никогда, даже самую небольшую. И их сознание не должно «присутствовать» на операции.

Уснуть и проснуться
— Многие очень боятся не уснуть во время операции.
— Я каждый раз на обходе спрашиваю, слышал ли кто-нибудь что-нибудь. Нет? Хорошо. Сны бывают, это побочное действие препаратов. Я вот сегодня без всяких препаратов по зеленой траве вдоль речки бегал во сне, что об этом говорить.
— Как будите своих пациентов?
— Мы их не спешим будить. У нас не такой большой поток, как во взрослых больницах, где нужно больного быстро прооперировать и отдать в профильное отделение. Каких-то пациентов будим сразу, в зависимости от сложности самой операции.
Буквально вчера оперировали малыша. Ему два дня от роду, и весит он два килограмма. У него атрезия пищевода — такая врожденная патология: сверху слепой отросток и снизу, из желудка, такой же. То есть пищевод нужно было соединить.

Этот пациент у нас будет спать еще неделю. Его разбудим только тогда, когда пищевод срастется полностью, мы проверим его проходимость и проведем еще ряд исследований.
Кстати, в конце 1980-х атрезия пищевода — это была верная смерть, ребенок даже слюну не мог проглотить и просто тонул в ней.
В конце 1990-х мы с Юрием Теном (заместитель главного врача центра охраны материнства и детства по хирургии, профессор. — Прим. ред.) сели и решили, что надо об этом писать. Так у него получилась докторская по хирургии атрезии пищевода, а у меня — докторская по интенсивной терапии при той же атрезии. И если раньше была 90%-ная летальность, то теперь 90%-ная выживаемость.

Там, где клен шумит
— Наркоз — это ведь не только для пациента, но еще и для хирурга.
— Да, мы обеспечиваем ему комфортные условия работы — вынужденное, удобное для хирурга положение пациента, его дыхание и сердцебиение, отключение сознания, обезболивание, удобное положение раны, чтобы хирург смог подобраться туда, куда надо.
— А кто несет ответственность, если что-то пошло не так на операции?
— Ну например, умер пациент с той же атрезией пищевода. Мы приходим на вскрытие: пищевод цел, проходимость есть. И все. Получается, что хирург сделал все правильно, и он будет на этом настаивать, а я, получается, не смог. Хотя на самом деле там были изначальные серьезные осложнения. И мне будет непросто это объяснить родителям.

— Кто вообще должен все объяснять родителям?
— Я. У меня довольно поганая работа — я объявляю людям о смерти их детей. Я не вручаю им грамоты и цветы за то, что они хорошие родители, не рассказываю о победах ребенка на стометровке или олимпиаде по математике. Я объявляю о смерти.
С этим связаны все скандальные моменты. Смерть всегда разная и абсолютно неожиданная. Конечно, мы пытаемся готовить родителей к каким-то печальным ситуациям, находить общий язык, сообщаем сразу, как только нам становится понятным исход.
За прошлый год у нас был 421 пациент и 17 летальных случаев, их них 13 — это тяжелые пациенты с необратимой патологией.
Очень много зависит от семьи. У нас непростая ситуация с травмами по недосмотру родителей. И бывает, что ребенок с поносом лежит неделю дома, поступает к нам в состоянии шока от потери жидкости и серьезнейшими нарушениями обменных процессов, а потом нас обвиняют в каком-то бездействии. Ну а почему ребенок семь дней лежал дома тряпочкой и никто не побеспокоился?

Или говорят беременной женщине, что есть множественные внутриутробные пороки развития, но женщина дождалась родов, а мы дождались проблем и печального результата.
Есть и обратные ситуации. Несколько лет назад шестилетний мальчишка утонул в бассейне, прям даже камеры записали, что он без признаков жизни. Его вытащили, привезли к нам, он две недели был в гипоксической коме, вентилировали легкие, лечили ему пневмонию, реабилитировали в барокамере — мозг пострадал капитально. И вот выписали.
Проходит месяца два, он заходит с мамой в кабинет и начинает петь. Я говорю: «Сына, подожди» — веду его через отделение, всех врачей и медсестер собираю в ординаторской. «Вот теперь давай». И он запел «Там, где клен шумит», немножко сбился на одной строке, а потом как дал по восходящей: «А любовь как со-о-он, а любовь как со-о-он»… Все в слезах.