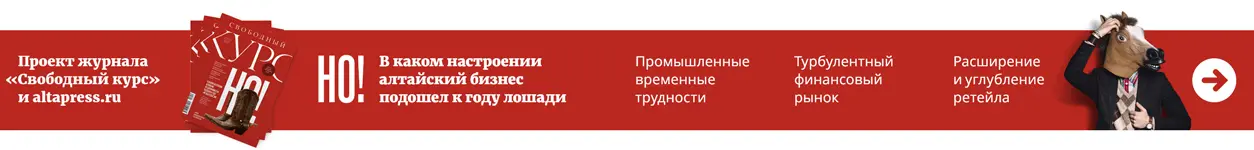Хорошие красные и плохие белые
На вопрос, на чьей стороне были алтайские крестьяне 100 лет назад, советские историки давали однозначный ответ: на стороне красных, конечно.
Вот партизанский командир Ефим Мамонтов – при советской власти его именем назвали райцентр в Алтайском крае. Вот Игнатий Громов, вожак каменских лесных братьев. Он - первый почетный гражданин Новосибирска.
Как и многие другие полевые командиры той эпохи, они долгие годы считались героями. Как же просто было у советских пропагандистов!
Красные и их сторонники - хорошие. Белые и их прихвостни - плохие. Между тем, тысячи сибиряков только сначала боролись за красных. А потом они восстали против них.
«Жену псаломщика изрубили на куски»
Алтайские крестьяне начали уходить в партизаны в середине 1918 года - никто их, к слову, туда не гнал, движение было добровольным.
В тайге, в горах, на берегах рек они строили землянки, сооружали шалаши. Там и базировались их отряды - сначала небольшие, по 20-40 бойцов или немногим больше.
Потом про красных партизан будут слагать песни и писать героические повести. А вот газеты тех лет (конечно, не большевистские) именовали их красными шайками.
Осенью 1919 года «Алтайский вестник» приводит жуткий рассказ очевидца резни в Каменском уезде – ее учинили люди, именовавшие себя красными партизанами.
«У священника села Корниловского щеки от рта были прорезаны до ушей, отрезаны половые органы, и после этого его лишь умертвили. Жена псаломщика была изнасилована всей бандой, были отрезаны груди, затем всю ее изрубили на куски…
В селе Ярки красные не пощадили сельского учителя, гимназиста-оспопрививателя и секретаря волостной управы. Все они были убиты зверским образом», - пишет автор этой заметки в №161 «Алтайского вестника» за 1919 год.
Историк Алексей Тепляков считает: руководил ими Игнатий Громов. Тот самый - почетный гражданин.
Расстреливали, не считаясь с возрастом
В следующем номере «Алтайского вестника» – статья о бесчинствах красных партизан в селе Павловском. К статье приложен рапорт объездчика с описанием убийства отца лесничего – старика 80 лет.
«Дали бы вы мне шашку, я бы показал, как рубят безвинных стариков», - сказал старик перед смертью.
Борцы за светлое будущее, ставшие партизанами, «расстреливали, не считаясь с возрастом и полом, пусть бы родился в этот же день, один черт – уничтожали», - цитирует воспоминания Игнатия Громова новосибирский историк.
Авторы «Иркипедии» сообщают: отряд Ефима Мамонтова убивал милицию и лесных охранников, грабил и истязал мирных торговцев и зажиточных крестьян. Своих же земляков, сумевших встать на ноги за счет упорного труда.
Революция в кровавых перчатках
О зверствах отряда алтайского партизана Григория Рогова, который вместе с Мамонтовым освобождал от белогвардейцев Барнаул в декабре 1919 года, пишут много.
Пощады к тем, кого роговцы считали врагами, они не знали. А к врагам относили - ну, например, дружинников самоохраны и попов. Священников жестоко казнили - нередко топили, за что партизаны называли их водолазами. Смерть, убийство стали в те годы не просто обыденностью - предметом шутки.
Соответственно, и церкви перестали быть святыми местами - из них изымали ценности. Из поповских бархатных риз получались прекрасные партизанские штаны, вспоминал роговский командир Максим Белокобыльский. Согласитесь, это немного шокирует.
В октябре 1919-го в селе Дмитро-Титово (ныне - территория Заринского района) роговцы привязали к повозке местного священника Василия Закурдаева - так сказать, вдохновителя дружинников самоохраны.
Привязали, потому что сам Закурдаев идти не мог - отстегали плетьми. Его долго волочили, а потом добили штыками и выстрелами и отрубили голову - это у партизан называлось "снять челпан".
Впрочем, историк Евгений Платунов утверждает: раньше с благословения отца Василия дружинники зверски избили и застрелили 70-летнего отца партизана.
Не беремся судить, кто был виноватее или кто пролил больше крови.

В безумие погружались постепенно
Между тем, люди, ушедшие в партизаны, изначально не были закоренелыми преступниками (хотя были и исключения). И, наверное, не случись эта великая смута, продолжали бы жить мирным трудом.
Да, до революции Россия отнюдь не была спокойным местом - бунты случались часто, в том числе - с кровопролитием. И все же в целом порядок сохранялся.
Все изменилось после вступления страны в войну в 1914 году - страна погружалась в разруху, напряжение в обществе нарастало, ненависть распространялась, как ядовитый газ.

Очереди и дефицит. Похоронки и беженцы. Карточки и слухи (один страшнее другого) – все эти спутники военной экономики выматывали обывателя до крайности.
«Сахарный голод в уезде», - констатирует «Жизнь Алтая» уже в начале 1916 года. Естественно, ищут виновных в дефиците, ищут припрятанные продукты, проводят обыски в лавках.

«Царя нет – все дозволено»
В феврале 1917-го царь отрекся от престола. Народ ликовал, дворяне понадевали красные банты, а гражданские активисты уверовали в «чудо мгновенного политического преображения».
Но Временное правительство действовало так, что хаос только нарастал. Оно упразднило полицию и объявило акт амнистии всем заключенным. Со своей стороны алтайские крестьяне двинулись добывать своими руками то, чего так не хватало при царе.
«В лесничествах полный беспорядок, крестьяне самовольно захватывают казенные земли и леса», - сообщает сводка управления Алтайского округа от 1 июля 1917 года.
«Пуд хлеба равнялся подкове»
Хуже того, новоявленные правители затевают демократизацию армии. Многие солдаты - в основном запасные и ополченцы - поняли это так: хочу воюю - хочу домой еду.
И на места хлынули дезертиры, многие с оружием. Их ловят, судят - но их слишком много. Они грабят поезда, отнимая продукты у своих же товарищей, оставшихся на фронте, пишет "Жизнь Алтая".
В деревне, куда они возвращаются, обстановка тоже наэлектризована. Правительство обязало крестьянина сдавать для армии уже все излишки зерна. Это не было реквизицией – за зерно платили. Но сколько?
«Пуд хлеба равнялся одной подкове», - с горечью писал современник.

«Свободные граждане грабят и жгут»
Чтобы не сдавать зерно за бесценок, крестьяне пускают его на самогон. Домашнее производство спиртного приобретает поистине промышленные масштабы.
«В селе Вяткинском вино курят почти поголовно все жители. Винокурами в подавляющем большинстве являются женщины», - пишет «Жизнь Алтая» в октябре 1917 года.
Да мало того - все же еще и пьют. «Пьют женщины, девицы и даже дети… Милиция и волостные комитеты бездействуют», - пишет в "Жизни Алтая" публицист Михаил Курский про алтайскую деревню.
Оружие, самогон и безвластие – огнеопасное сочетание. «Какая-то эпидемия самосудов», - буднично и даже как будто с юмором описывает "Жизнь Алтая" в 1917 году, как сельчане избивают чуть не до смерти мелких хулиганов и воришек.
О том, что настроения у населения погромные, издание пишет почти в каждом номере.
«Грабят и жгут свободные граждане одни других, разнесены хутора своих же крестьян», - подводит итоги свободы, которую дала революция, некто Ф.Н. («Жизнь Алтая», 8 октября 1917 года).
Голод, безработица, тиф
На фоне разрухи и раздрая в конце 1917 года большевики взяли власть. Но в Сибири их свергли уже в мае 1918-го при участии чехословацкого корпуса, сформированного из пленных чеков и словаков.
В европейской части страны разворачивались битвы между регулярными белыми войсками и регулярными же красными. Последних поддерживали "зеленые", третья сила из крестьян.
В Сибири же новая администрация провозгласила сильную Россию и правопорядок. Ее вскоре возглавил обосновавшийся в Омске адмирал Александр Колчак, объявивший себя Верховным правителем страны.

Жизнь как будто налаживалась - появились исчезнувшие при большевиках товары. Первую очередь водопровода в Барнауле сдали как раз в это время.
Но в финансах по-прежнему хаос. На рынке ходят боны, керенки, чеки, купоны, облигации, сибирские рубли – и, конечно, фальшивки.
Безработица зашкаливает, в городах толпы голодных беженцев, больницы переполнены тифозными больными. Где же порядок? В 1918 году сибирские крестьяне подались в тайгу и горы и, как вскоре стало ясно, они за красных.

«Заставлю вас подчиниться»
Массовым это движение стало после того, как новая власть объявила мобилизацию сельских пареньков - ей, чтобы удержаться, нужны были регулярные войска.
Но деревня, уже потерявшая на фронтах кормильцев и, к тому же, наполненная дезертирами и демобилизованными, воевать не желала. Со своей стороны большевики-подпольщики призывали не давать новобранцев.
Взорвали ситуацию несколько случаев - в том числе инцидент в Черном Доле (село Архангельское, что около Славгорода).

Чернодольцы, как и большинство крестьян, саботировали мобилизацию. В сентябре 1918 года в село на автомобиле заявился начальник славгородского гарнизона Киржаев с несколькими офицерами.
«Снять шапки! Встать, сукины дети! Я заставлю вас пулеметом подчиниться законным распоряжениям»! – якобы орал он.
Прокатилось красное колесо
По одной из версий, вечером офицеры, будучи в крепком подпитии, выстрелили в толпу. Так это или нет – неизвестно. Но то, что какие-то действия Киржаева, человека не умного, спровоцировали восстание, видимо, правда.
Киржаев и его люди арестовали нескольких зачинщиков протеста. А молодежь соседних сел объединилась и пришла в Славгород. Толпа зарубила топорами 82 офицеров и 10 солдат, ограбила почтовую контору и выпустила заключенных.
Колчаковцы жестоко подавили восстание, Черный Дол сожгли. И весть об этом разнеслась по Сибири.
Белая власть вместо порядка получила две войны. Одну с большевиками, которые уже формировали регулярную армию с участием бывших царских генералов и офицеров. Другую - с крестьянами-партизанами.
И по широкой сибирской колее покатилось то самое красное колесо, о котором писал Александр Солженицын.
«Оставим голыми всех буржуев»
Колчака сибирские крестьяне не приняли и по другим причинам. Его администрация "в первых же строках" запретила рубку казенного леса, объявила о взыскании налогов и недоимки и начала сбор «дани» - шинелей, белья, лошадей, продуктов.
Воспринималось это, полагаем, как чистая несправедливость. Деревня и так наизнанку вывернулась, чтобы обеспечить и армию, и город - сколько еще можно отдавать?
Со своей стороны, большевики, ушедшие в подполье, умело использовали все промахи этой власти. Ну, например, пообещали вообще избавить людей от налогов (что, как показала история, было чистым враньем). Они распространяли прокламации, пугали зверствами белых - и реальными, и выдуманными.
«Пропаганда большевиков широкой волной разливалась в нашем тылу, проявляясь в огне повстанческого движения, охватившего огромные районы», - писал полковник Александр Камбалин, командир 3-го Барнаульского Сибирского стрелкового полка.
Масло в огонь партизанского движения подливали бесчинства и грабежи союзников белых (чехов и поляков) и карательных отрядов, посланных обезвредить «красные шайки», добавляет полковник.
«Сколько правительство восстановило людей против себя отбиранием шинелей. А много ли отобрали? — возмущался крестьянин Енисейской губернии в письме Временному Сибирскому правительству. - Каких-нибудь 5–10%. А 90% носят и хвастают, что не нужно поддаваться буржуям, они всех голыми оставят».
Беда колчаковской администрации
Воевать в леса ушли, конечно же, не все сельские жители. В некоторых местностях - 10% населения, полагает историк Шишкин. Вроде немного. Но только представьте, что в вашей многоэтажке из 600 соседей 60 взяли ружья и пошли громить учреждения - выходить из квартиры уже не захочется. В общем, можно понять, что чувствовали люди, жившие здесь 100 лет назад.
А к концу 1918 года на Алтае действовало четыре крупных партизанских очага. В Барнаульском уезде орудовал отряд Григория Рогова, выходца из села Жуланиха, что в Заринском районе.
В Славгородском совершал набеги Ефим Мамонтов со товарищи. В Каменском - Игнатий Громов (он позже вступил в отряд Мамонтова). В предгорьях партизанами командовал Иван Третьяк.
Со временем отряды росли, дисциплина в них укреплялась. К середине 1919 года у партизан Западной Сибири было уже около 10 тыс. бойцов, в конце – 35 тыс. (при населении региона - 14-15 млн).
Лидерами нередко становились опытные фронтовики - как, например, Рогов и Мамонтов, георгиевские кавалеры. Их отряды стали настоящей бедой колчаковской администрации.
Неуловимые мстители
Вот как, например, действовали роговцы осенью 1919 года в районе Барнаула. Они избивали заготовителей, пытавшихся накормить Барнаул, отбирали у них продукты, разрушали мосты, перекрывали железную дорогу.
На партизан насылали регулярные войска. Их разгоняли. Но они хорошо знали местность, рассредоточивались, возвращались в деревню… А потом снова собирались в отряды.
Воевать с сетевой организацией партизан, которых часто не отличить было от мирных крестьян, колчаковские отряды не умели. А может, и не хотели.
«Правительственные войска до того действуют вяло, что становится обидным. Но зато они энергично порют и даже обирают мирных жителей и лишь плодят большевиков… А когда налетит шайка, — убила, разграбила, — а от правительства нет никого» — жаловался в Омск алтайский крестьянин (цитату приводит "Сибирская заимка").
«Нужно полное разрушение всего»
Правда, многие отряды не были однозначными сторонниками красных - они, скорее, "дружили против" Колчака. Партизанские вожаки, в основном, были анархистами - они даже водили свои отряды в бой под черным анархистским знаменем с черепом и костями.
«Нам, крестьянам, не нужна никакая власть, нам необходимо народное право!» - утверждал один из популярнейших сибирских партизанских атаманов Петр Лубков.
«Сейчас нужна анархия — полное разрушение всего», - говорил другой батька Иван Новоселов, воевавший вместе с Роговым.
И они разрушали - подрывали мосты, пускали под откос поезда, рубили головы сторонникам белой власти и грабили банки, почтовые конторы, торговцев и зажиточных сограждан, тем самым обеспечивая себе существование.
Вооружились до зубов
Чем дольше шла эта война всех против всех, тем больше переходило на сторону партизан милиционеров и даже солдат.
Примеры у них были: к концу гражданской войны в Красной армии служили около 75 тыс. бывших царских генералов и офицеров, приводит данные госархив РФ.
«Около 8 тыс. колчаковских солдат добровольно перешли на сторону партизан в конце ноября 1919 года на территории Степного Алтая», - рассказывает историк Владимир Шишкин.
К осени 1919 года в Сибири партизаны вооружились «до зубов» и отвлекали на себя до 20% колчаковских войск и вооруженных сил интервентов – они стали силой, с которой считались все.